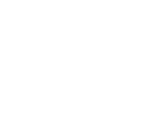Рассказ, посвященный памяти Егора Филипповича Ёлкина, в адрес редакции, прислали родственники героя-земляка. До войны он жил в Яркуле и работал председателем колхоза «Красные орлы». С фронта вернулся раненный, но продолжал работать в колхозе. По словам Галины Владимировны Ермовской, внучатой племянницы Егора Филипповича, повествование основано на реальных событиях, по рассказам ветерана ВОВ.
Есть в Новосибирской области деревня. Большая такая деревня в пять улиц. На высоком крутояре раскинулась над озером, которое Яркуль называется. «Яр» – высокий берег, «куль» – озеро. Вот и получается – озеро с высокими берегами. И деревня – тоже Яркуль. Как основали её триста лет назад наши предки, заморачиваться с названием не стали. А зачем? В деревню едешь – вот оно тебе озеро. Издалека видать. Море, а не озеро. А на озеро собрался – мимо деревни не проскочишь. Два в одном….
Сибирь – широкая душа. И расстояния тут небывалые. Раньше-то до города, областного центра, на быках неделю добирались. Неделю обратно. Да и сейчас, на машине даже, восемь часов вынь да положь в одну сторону. А дождями солонцы местные зальёт или зимой на неделю заметелит – то и вообще деревня от мира отрезанная получается. Ни тебе туда, ни тебе обратно.
Земли завались, а под пашню наперечёт – солончаки одни. Так что с озера, соединённого двумя протоками с огромным Чановским бассейном, местные в основном и кормились. Катера свои, рыбозавод, механизированная колонна…. Рыбы было всякой разной – видимо-невидимо. Настолько много, что и до сих пор есть.
Работа на воде – тяжёлая, опасная, отсюда и человек получается: крепкий, обстоятельный, уверенный в себе. До конца всюду идёт: хоть в работе, хоть в гулянке, хоть в драке. Он и в беде никого и никогда не бросал. Суров край сибирский, подлости ни в каком виде не прощает.
Хоть и далеко деревня от потрясений разных геополитических находилась, а хлебнула всего со всей страной одинаково, полной чашей. То и войны касается, Великой Отечественной. 347 мужиков отправил Яркуль воевать, а вернулись 112.
Среди них и дед мой двоюродный – Егор Филиппович Ёлкин. Орден Красной звезды, два ордена Великой Отечественной, десяток медалей…. Штрафной ротой командовал.
О войне, как и большинство фронтовиков, говорил редко и неохотно. Единственный раз только….
Мы тогда на каникулы летние в Яркуль с братом приехали, студентами уже были. А у деда Егора крыша прохудилась, плетень покосился – пришли помочь. К вечеру управились, в хату зашли попрощаться.
– Куда, кости мать, собрались? А ну, за стол! – Весь обширный русский ругательный лексикон для него, вот это вот «кости мать» и заменяло. Как с войны пришёл.
Сели. Суров был дед Егор, мало кто ему в деревне перечить отваживался….
На столе картошка отварная, селёдка малосольная, порубленная уже с зелёным лучком, краюха хлеба, огурцы с огорода и бутылка водки. Три гранёных рюмки, каждая, что твой стакан. Налил до краёв, поднял свою, на нас смотрит. А я тогда и не пил-то практически. Да только как откажешься. Жахнули за дедом, до дна, за селёдкой потянулись, за картошечкой. Он хлеба щепоть отломил. К носу поднёс, вдохнул. По второй выпили – огурчик съел.
Картошка для нас. Картошку он на дух не переносил, после того, как месяц почти, зимой, одну её, мёрзлую, ел он вместе со своей ротой в выстуженных окопах, вырытых на картофельном поле. Откинулся на спинку стула с затуманенным взглядом и вдруг заговорил:
– Осенью 44-го это было, в Польше. Бои страшные. Соображал фашист: Варшава падёт – Берлин следующий. Насмерть стояли. А мы шли. Всё равно шли. Многие мои товарищи боевые там и остались… – Дед Егор помолчал. Широкое его лицо, всё изрезанное мелкими морщинками, затвердело. – Городишко один мелкий, Квятово или Квятково, на пути к столице этой польской, слёту буквально прошли весь, на удивление, а на окраине западной споткнулись. Из завода кирпичного, полуразрушенного, фрицы крепость настоящую организовали с пулемётными точками и миномётными позициями. Никак мы эти сто метров, которые завод от крайних городских построек отделяли, пройти не могли. Всё пространство перед собой, по секторам, собаки эти женского рода, пристреляли. Три раза роту свою в атаку поднимал – три раза откатывались, с потерями.
Дед Егор плеснул по рюмкам, отставил под стол пустую бутылку, достал полную. Сорвал пробку, долил, кому не досталось, махнул свою рюмку, на нас не глядя, занюхал тыльной стороной запястья, продолжил:
– Лежу, значит, за кучей битого кирпича после очередного броска, самокрутку сподабливаю, кумекаю, как дальше быть. Войне-то уж конец обозначился, всем выжить охота. Вдруг вижу, наблюдатель мой из соседнего дома, машет руками, что мельница твоя ветряная, чтобы я его заметил. Потом в сторону завода тычет и кричит чего-то, за взрывами и пальбой не слыхать. Высунулся я чуток из-за укрытия своего – мать честная. Малец, метрах в пятидесяти, аккурат посередине между нами и немцами, в нашу сторону ползти пытается. Как там очутился, откуда вылез? А эти твари-то с той стороны, в кости мать, прямиком по нему и лупят. Тоже заприметили, и игра у них, видать, пошла – кто первым попадёт.
Обхватил дед Егор ладонью правой руки лоб, крепко провёл по волосам.
– До сих пор вот это вот перед глазами. Ножки голые, на плечах лохмотья какие-то, и так смотрит, как будто в душу тебе прямо. И ручонки свои тянет. Э-эх…. Подбросило меня, какие там пули, вперёд, к мальчонке этому. За мной вся рота поднялась. И не бегут даже, летят словно, ни камней под ногами, ни проволоки не замечая. «Ура!» не помню. Ревели что-то в бешенстве, каждый своё.
Я уже добежал почти до парнишки, слышу, мина свистит. Она, знаешь, когда мимо летит, высоко – у неё и звук другой, за всю войну-то определять научились безошибочно, а тут так свистит, что понимаю – «моя». Рядом жахнет. Прыгнул. Мальца под себя! Рвануло…
Налил. Выпил. Закинул в рот хвост селёдочный. Пожевал. Мы не дышали.
– Очнулся в медсанбате. Политрук рядом сидит. Я первым делом про мальца этого – жив? Живой, говорит, а сам улыбается, рад, видно, что сознание ко мне возвернулось. Если бы, говорит, не ты…. Да ладно, отвечаю, что я? Любой так же сделал бы. Я просто ближе оказался. Завод-то взяли? Да, говорит, не то, что взяли – снесли всю эту нечисть одним духом. Ни одна вражина не уцелела. Уж больно мужики за мальца-то этого на фрица осерчали. Где ж это видано, по ребёнку стрелять, как в тире. Ладно, говорит, отдыхай. Роту в тыл отвели, на переформирование, так что завтра у тебя много посетителей ожидается.
Ушёл политрук, а я к себе прислушался. Терпимо. Спину малость саднит, и нога правая словно чужая мне. Но хоть на месте, уже хорошо. Огляделся, на бок повернувшись, на животе лежал. Сарай большой, клуня по-местному, кругом раненые на соломе: кто стонет, кто пить просит, кто зубами скрипит, а кто и мамку зовёт. Сестрички в халатах белых. Обычное дело, медсанбатовское. Не впервой мне. И солнце так лучами, всю эту картину, сквозь прорехи в крыше.
Не успел я обратно на живот упасть, гляжу, а в распахнутых настежь воротах фигурка тоненькая. Сразу я его узнал. Шестым каким-то чувством почуял. Мой! В пиджачке с чужого плеча, штанишках потёртых – всё не лохмотья.
С ноги на ногу переминается – войти не войти. Решился-таки – вошёл, и – от раненого к раненому. Подойдёт, наклонится, осмотрит – дальше. А как-меня-то увидел, глазёнки заблестели. Подбежал, на коленки рядом опустился, лопочет чего-то по-своему, не понять. Дженькуе, потом говорит, бардзо дженькуе, – благодарствую, мол. И вот это ещё раз пять повторил: «Естэм бардзо вджэньчны». Вишь, до сих пор помню…. «Я вам очень признателен» – это уж потом мне перевели. У самого в глазах защипало, но креплюсь, по голове его глажу, мол, теперь-то уже всё хорошо будет, не реви. А он, вспомнив будто про что-то, за пазуху полез – япко, япко, си. И яблоко мне протягивает. Большое такое, зелёное. Ах ты ж, кости мать. Да сам ешь, ведь голодный небось – обратно-то ему. А он мордашкой своей мокрой трясёт: ни, ни, си. Нет, нет – тебе, то есть. Заставил меня взять это яблоко, лбом к руке прижался на мгновение и убежал.
Не видел я его больше. А в скорости, недели не прошло, меня и вообще в госпиталь направили, в тыл глубокий. Там я это яблоко-то сестрёнке, которая за нами, ранеными, ухаживала, и отдал. Сам не смог съесть. Вот такие дела.
Дед Егор выпрямился на стуле, потёр пальцами сухие глаза, посмотрел на наши полные рюмки, налил себе:
– Давайте ребята за мальца того выпьем. Сейчас-то уже вырос, наверное. Дети у него. Дай им всем Бог здоровья.
***
–Пся крев, – Януш окинул взглядом готовый блиндаж. – Эти украинские свиньи хоть что-то могут сделать нормально? Тадеуш, где этот сброд? Гони всех сюда. Пусть ещё один накат сделают и дёрном накроют – у русских теперь тоже дроны есть. Я на НП.
По выкопанному в полный рост окопу он прошёл в сторону посёлка метров пятьдесят. Остановился, вгляделся в чистое, бирюзовое небо, прислушался, быстрым движением перекинул своё тело на бруствер, добежал до церкви, что стояла на окраине. Стены посечены пулями, осколками, в куполе дыра, а так целая. Русские по своим храмам не бьют. Ну и дураки, нам же лучше. Вошёл внутрь, налево, по крутой узкой лестнице наверх, на колокольню, махнул упреждающе дёрнувшимся было к нему бойцам. Лежавший за набитыми песком мешками наблюдатель оглянулся:
– А, командир, вы вовремя. Только докладывать хотел. Вижу движение в селе у русских за ленточкой. Похоже мирных эвакуируют.
Януш вскинул к глазам лёгкий Recon, всмотрелся. Действительно, два «Тигра», «Рысь» с пулемётом, пара бойцов в броне возле одного дома, ещё двое возле другого. Точнее – возле того, что от этих домов осталось. «А я-то думал, никого там уже нет. Подвалы, видимо, глубокие…».
– Радио дивизиону изготовиться к стрельбе! – приказал он.
– Господин капитан, – обратился к нему один из наблюдательной группы. – А это правда, что у вас дед с русскими воевал? Во вторую мировую?
Не вовремя ты со своими вопросами парень, ох, не вовремя. Но всё-таки ответил, не стоит усугублять и без того раскалённую обстановку в отряде. – Нет, капрал, неправда. Он тогда сопливым пацаном был. Родители его погибли под русскими бомбами, а он чудом уцелел. В Квятково это было. Оттуда и фамилия моя – Квятковский. Дед её позже взял, в память.
– К стрельбе готов! – перебил его наблюдатель.
– Одиночным, пристрелочным… – огонь! – Негромко скомандовал Януш Квятковский, выкидывая из головы неуместный сейчас разговор и отслеживая попадание первого снаряда. – Лево пятнадцать, прямо двадцать – залп!
Даже и без бинокля видны были разрывы в деревне, поднявшие в воздух обломки стен, лоскуты кровли, части броневиков. «Ну что ж, – подумал Квятковский. – Тоже своеобразная эвакуация. На небеса…. С дедом моим встретитесь – привет передавайте. Такой же малахольный был, как и те, с той стороны ленточки. Тоже всё правды какой-то искал, мать говорила. Сам-то я его и не помню почти. А нет никакой правды. Деньги – вот есть, их потрогать можно и купить на них всё остальное, недостающее. Ту же правду. Такую, какую тебе хочется. Просто ведь всё. А за эти три броневика и четверых солдат, мирняк не в счёт – деньжат мне причитается прилично».
– Господин капитан, не хотите яблоко? В саду, где сейчас блиндажи роют, все деревья в щепу, а на одном вот, уцелело, – протянул ему руку с плодом капрал. – Смотрите какое оно большое и зелёное.
«Почему бы и нет? – Подумал Януш. – Теперь можно и перекусить. Заслужил». Он поднёс подарок чужой ему земли ко рту и уже хотел впиться своими белыми, крепкими зубами в свежую мякоть, когда яблоко в его руке беззвучно взорвалось. Следующими были наблюдатель и капрал, который слишком поздно для себя понял, что по ним работает русский снайпер…
***
– Деда, а почему полк Бессмертный?
Это ж сколько лет пролетело. Трое их уже у меня: правнучка и два правнука. Те-то, мальцы совсем, дома сидят с мамкой, а эта пошла. И ведь гляди-ка – держится наравне со всеми. Устала, конечно, а виду не подаёт.
– Иди-ка сюда, понесу чуток, – я взял её на руки. – Бессмертный он, полк-то, потому, что помним мы их. Солдат, что в нём идут. Каждого. Кто они были, что сделали, почему, для кого. А пока память наша жива – живы и они. От того и Бессмертный! Ты, внучка, повыше, повыше деда Егора-то, подними! Вот так, чтобы видел он, сколько людей его помнит!
Игорь КОНЕВ.